Полонез с видом на Кони-Айленд (Песня эмигранта)


Как потерявшийся ребенок, эмигрант в Америке стоит, задрав голову в небо, — может, слезы затекут обратно в глаза? Вокруг него движется мир, и у каждой молекулы этого движения есть цель : офис, квартира, негуляная собака, разболевшийся зуб. К каждой цели своя эмоция, как марка на конверт: боль, голод, раздражение, похоть, страх. А эмигрант думает: что угодно, только не вот эта пустота, когда не знаешь, что и чувствовать, и я никому не нужен — ни людям, ни собакам, ни даже полиции. Он здесь первый день и не успел ничего наворотить.

Здесь подъезды, захлопнутые сетчатыми дверями, стальной вуалью. Крохотные почтовые ящики с глухими дверцами, как в колумбарии, и тесные лестницы, отполированные подошвами. Двери с латунными петлями, щеколды, водопроводные краны, крашенные в пять слоев, — все родом из джаза, но если где ломается, то не беда: это ретро кто-то все еще производит, и надо лишь дойти до ближайшего магазина, чтобы купить точную копию.

Огромные, каждый размером с леденец — и вот тогда в тебе лавиной обрушивается: это Нью-Йорк, и ты в другом полушарии. Это чужие тараканы.
На Брайтон-Бич все как в кино завязавшего Гайдая. Михаил Кокшенов с лицом идиота здесь даже не бросался бы в глаза. Закусочные с клеенчатыми столами, увешанные телевизорами, синие тренировочные штаны с лампасами, кожаные кепки. Сутулые люди неопределенного возраста говорят в мобильные телефоны, держа их около рта. В воздухе висит слово «колбаса», слышно, как с улицы доносится: «Миша!» В магазине пасмурно и темно, все заставлено пластмассовыми прилавками, которые тянутся ушибить тебе бедро. Здоровенные мужчины по-хозяйски озирают магазинные кишки — и вот ты вновь дома, и это вовсе не хорошо. Селедка под шубой, салат «одуванчик», вывески на русском языке, прямиком из дурного сна дизайнера. Разъезжающиеся ворота выпускают наружу «мерседесы» и БМВ, и тебе смешно: восемь машин — и ни одной дешевле 50 тысяч.
Тебе суют в руку схему метрополитена, толстую, словно пятничная газета. Миллион деталей, разноцветных линий и точек, будто кто-то прожег бумагу, уронив на нее через сито раскаленное олово. B-Train, Q-Train — чем они отличаются друг от друга? Ведь они едут в одном направлении — зачем же здесь два поезда вместо одного? И ты садишься наугад в Q, едешь на Манхэттен, выцелив нужную тебе станцию, и очень удивляешься, когда поезд промахивает мимо и куда-то сворачивает. Эту станцию находишь, лишь пять минут возя по схеме пальцами, как слепой, читающий по Брайлю. И сколько ни ищи в этом логики, нет ее. Сквозняки выдувают из тебя панораму с Манхэттен-бридж, которая была волшебным подарком еще десять минут назад. Столбы залеплены оранжевыми объявлениями об изменении графика движения поездов, но местные их никогда не читают. Они подключены к грибнице Нью-Йорка через особый вай-фай — откуда ему взяться у человека, даже не откашлявшего микроскопические частицы бобруйских шин?
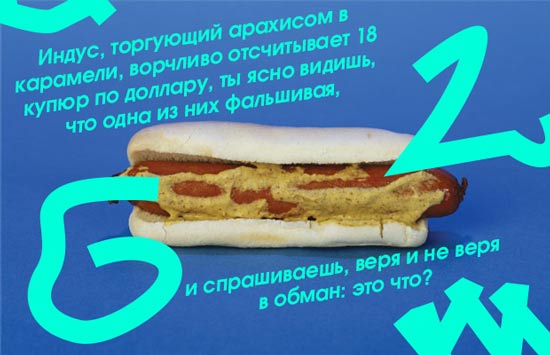
Залапанная чалма дрожит, раздраженно отнимает кулек, сует назад твою двадцатку и что-то булькает на полупрожеванном английском, размешивая воздух желтыми пальцами. Тогда ты, неожиданно для самого себя, кукарекаешь: «Fuck you!», — еще не зная, что для него это пустой звук, в то время как для тебя — факт биографии.
Китайские магазины, где люди локоть к локтю движутся буквой «П» от входа к выходу мимо незнакомых волосатых фруктов, мимо дюжин аквариумов с морскими гадами: весь этот бестиарий шевелит усами и клешнями, медленно ворочает жабрами, прощаясь с жизнью. В распоротый живот подвала летят из грузовика картонные коробки, словно жирные голуби. Выпрыгивает изжелта-синий мужчина и, шваркнув из ведра на мостовую полурастаявший лед, бросается обратно.

За спиной у тебя шевелится совместное дыхание десяти желающих попасть внутрь, и они плавят глазами твой затылок, как свеча парафин. Ты обреченно сходишь, глядя под ноги, и плетешься искать размен, а здоровенный парень в лавке забивает последний гвоздь: «Мы не размениваем. Купите что-нибудь». Лиловое яблоко за 69 центов на вкус как дождь.
Ты не говоришь по-английски. То, что ты считал английским, вовсе не он. Хуже всего разговаривать по телефону, когда себе не помочь ни руками, ни лицом.
Ты громоздишь знакомые конструкции, но они виснут между тобой и собеседником, как сырое белье, и по молчанию на другом конце понятно, что там пытаются сложить из этой мозаики что-нибудь, имеющее смысл. Бывает, что ты и твой абонент одинаково некомпетентны и разговор идет на двух выдуманных языках. Неловко, будто, совершив предательство, ты прощаешься, говоря «я перезвоню», и вы думаете, каждый на своем конце: что угодно, только никогда не слышать этого человека.
Родственники ездят по магазинам, бесконечно покупая и возвращая. Каждый раз ты звонишь им, их слышно как со дна океана. «Позже, — говорят тебе, — мы в молле». И, с досадой, отрываемые от важнейшего дела: «В молле!» Шопинг засасывает их, и ты вспоминаешь масляные глаза Роберта Де Ниро в опиумном притоне. Молл похож на причудливо освещенный ангар, уходящий в бесконечность, насквозь проткнутый эскалаторами, там хорошо слышно, как горы одежды с каждой минутой выходят из моды. Тускнеют стразы, выцветают ценники. Заведенные женщины, обалдевшие мужчины с айфонами ерзают на пыльных диванчиках.
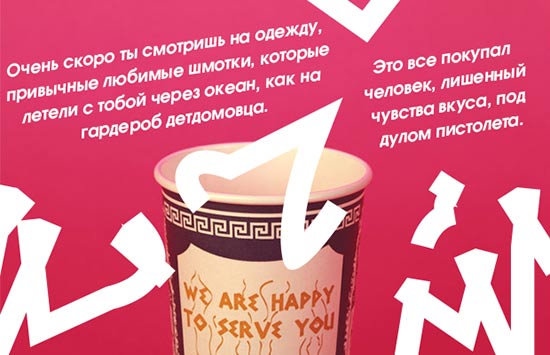
Зачем ты вез их? Лучше бы захватил знакомую книгу, один запах которой стоит дороже.
Через полгода у тебя не останется ничего из этого — ни растянутых трусов фабрики «Свитанок», ни галстуков, достойных ковбоев О. Генри: «Отдай их своему старику, пусть в них охотится на антилопу».
Тяжелее всего быть несамостоятельным, вернуться в детсадовцы. У тебя нет ничего — ни документов, ни пластиковой карты, ни желаний, ни корней. Невесомая спора, которую принесло ветром: может, приживется, а может, смоет водой. Тебя водят, указывают пальцем, объясняют и переводят, учат и оставляют ждать в условленных местах, строго наказав не уходить. В этом нет ничего, кроме заботы, но ты отвык от такой заботы с той поры, когда родилась младшая сестра, и теперь чувствуешь себя как в день, когда тебя первый раз привели сдавать анализы.
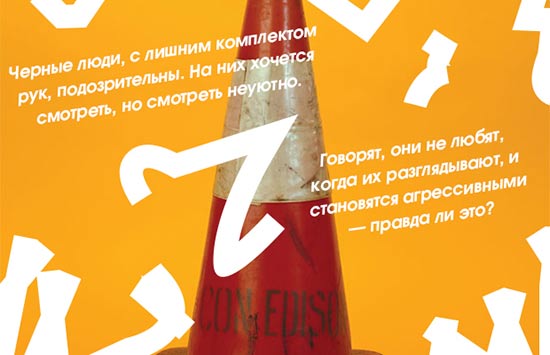
А пока что их дети заходят в вагон поезда и виснут на поручнях, им невдомек, как это — разговаривать, они кричат, на их лицах робость сменяется нахальством со скоростью, с какой горит магний фотовспышки. Эмоции прыгают внутри их черных тел как живые карпы внутри полиэтиленового мешка.
Тебе покупают билет на самолет, и ты едешь в аэропорт с огромным чемоданом. Бруклинский таксист из русской конторы узнает тебя, не повернув головы, — по дыханию, по посадке, трепету нервных пальцев, и вот вы уже оба знаете, кто здесь командует и подчиняется. Он высаживает тебя в самом конце парковки, чтобы не платить за въезд, ничего не хочет слышать о купоне на скидку, которой тебя снабдили, и всю дорогу набивает твою голову глупостями, как ватой.

В конце концов жалость берет верх, но лишь на пять секунд, потому что твоя стодолларовая купюра годится только на то, чтобы приподнять ее карандашные брови. Потом ты бегаешь по залам в попытках разменять, но в шесть утра все облеплено темнотой, будто мокрыми чехлами. Наконец в отчаянии поднимаешь проклятую сотку на виду у змеящейся очереди и кричишь, забыв обо всем: «Люди добрые!» И люди добрые находятся, и ты идешь на досмотр, стесняясь застиранных носков, трижды проходишь через рамку, каждый раз забывая что-нибудь в карманах, с улыбкой паралитика, и оставляешь в корытце брючный ремень, потому что этим утром, кажется, все ебаные флаги в гости к тебе. Штаны едут как оползень.
Через семь часов тебе включают Калифорнию.
![]() Автор: Коля Сулима
Автор: Коля Сулима
Источники:

 Ваш босс - идиот? Нет, он просто «Токсичный менеджер»!
Ваш босс - идиот? Нет, он просто «Токсичный менеджер»!  Как я удалял будущее. И почему вам стоит сделать то же самое
Как я удалял будущее. И почему вам стоит сделать то же самое  Третий возраст - увлекательная треть жизни
Третий возраст - увлекательная треть жизни  Почему мы рискуем
Почему мы рискуем  5 законов глупости
5 законов глупости 







